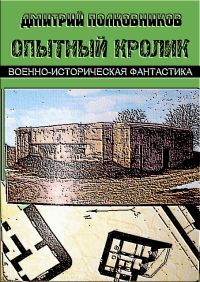6
Одесса встретила весной. Снег стаял. Везде была непролазная грязь. Я не успел появиться в полку, а начальник штаба уже выловил меня на ходу, чтобы отправить на шестимесячные окружные курсы по моей новой специальности мобработника. При этом он пояснил:
— Вернешься к нам через несколько месяцев и будешь получать 800 рублей в месяц. Мать привезешь в Одессу.
Было о чем задуматься: это были большие деньги — отец столько зарабатывал на двух работах. Я с трудом отказался от предложения, поскольку еще не решил для себя, кем хочу стать: то ли моряком, о чем мечтал в школе, толи выберу другую профессию.
Служба пошла своим чередом. В том же письме Нине от 13 февраля, где писал про «лошадок», были и такие строчки: «Не скучай и будь здорова, / Веселись от всей души, / Слушай „Дружбу“, / Помни дружбу / И скорей пиши!» — я был неисправим.
Посетил концерт хора Одесского театра оперы и балета. Мы все скучали на концерте, так как его программа явно не соответствовала вкусам нашей солдатской аудитории. За несколько дней до этого состоялся концерт самодеятельности «Ансамбля жен начсостава» гарнизона Одессы. Вот это был концерт! Пели женщины, познавшие войну, тревогу за близких и боль утраты. У многих в зале на глазах блестели слезы, и полюбившийся ансамбль долго не отпускали со сцены.
В период душевной подготовки к большой войне мы не воспринимали классическую музыку в рамках спокойной, незнакомой нам мещанской жизни, любовь к которой нам так старались привить оперные артисты. Мы в массе уже были «испорченным народом». Наши души согревали слова совсем других песен, например: «Наша школа, школа полковая, Командиры — впереди…», или «Пойдут колонны сталинской пехоты, Пойдут в последний бой с врагом…» Это нам тогда было ближе и понятней, с этими песнями мы жили и собирались воевать с Гитлером. Простите нас за это, но другими мы быть не могли. Чтобы нас понять, для этого надо было послужить вместе с нами в то время.
Из письма Нине от 15 февраля: «Сегодня у нас был митинг, посвященный 18-й партконференции. Был доклад о международном положении. Он заставил меня серьезно призадуматься. В этом году что-нибудь будет…» Как мы все ждали войну!
Но даже у Данилова «за пазухой» мне не жилось спокойно. Вот письмо Нине от 17 февраля: ‹‹…Веселые дела, приподнятое настроение. Спешу поделиться. Сегодня днем пришел приказ свыше: вышибить из штаба полка всех, не имеющих на руках документа о том, что они нестроевики. Вместе со мной отправляются 90 % обратно в старую школу. Мой начальник еще этого не знает. Работы по горло, а заменить меня раньше чем через месяц никто не имеет права. Завтра снова лягу за «Максима» и реже буду писать моей дорогой Ниночке…
Нинка, мне хочется через тысячи километров, отделяющие нас, крикнуть во весь голос тебе:
Мы сегодня звонкой песней
Распрощаемся с Одессой
И штыками встретим завтра Измаил!!!››
Я никак не пойму: или я — пророк, или это дар предвидения, или — реальная оценка обстановки. Но все, о чем говорилось в последних трех строчках, сбудется через четыре месяца: будут штыки, будут песни, будет Измаил, но, к сожалению, еще добавится и кровь!
Очень любопытное стихотворение попалось мне на глаза в феврале 1941 года в одной из одесских газет. Автор — Елена Ширман[27]. Название стихотворения было весьма недвусмысленным, и я включил его в письмо Нине от 23 февраля:
Я буду слушать, как ты спишь. А утром
Пораньше встану, чай вскипячу.
Сухие веки второпях напудрю
И к вороту петлицы примечу.
Ты будешь как всегда. Меня шутливо
«Несносной хлопотухой» обзовешь.
Попросишь спичку. И неторопливо
Газету над стаканом развернешь.
И час придет. Я встану, холодея.
Скажу: «Фуфайку не забудь, смотри…»
Ты тщательно поправишь портупею
И выпрямишься. И пойдешь к двери.
И обернешься, может быть. И разом
Ко мне рванешься, за руки возьмешь.
К виску прильнешь разгоряченным глазом,
И ничего не скажешь. И уйдешь.
И если выбегу и задержусь в парадном,
Не оборачивайся, милый. Уходи.
Ты будешь биться так же беспощадно,
Как бьется сердце у меня в груди.
Ты будешь биться за Москву, за звезды,
За нынешних и будущих детей.
Не оборачивайся. Ночь морозна,
И слез не видно на щеке моей.
Странные мысли возникают по прочтении этого стихотворения. Это строки не о финской войне, которая закончилась год тому назад, и приписной состав уже распущен. Кроме того, на финской войне бились не «за Москву, за звезды (кремлевские!), за нынешних и будущих детей», а за «свободу финского народа от ига капитала». Значит, это стихи о будущей войне с Германией, которая действительно будет «за нынешних и будущих детей», то есть на взаимное уничтожение двух воюющих сторон, двух систем. Петлицы, портупея — все это говорит о новой мобилизации командного состава.
Что же получается? Сталин упорно не хотел видеть приближения войны. Он ее не ждал, но готовил! А Елена Ширман не только ждала ее со дня на день, как и мы, грешные, а описала ее начало, причем тревожно и трогательно, как будто уже проводила мужа на фронт. Вывод: ничего не видел только тот, кто не хотел видеть, как приближалась война. В сознании многих она уже шла! Сложное чувство осталось от этого стихотворения. Больше я его никогда не встречал.
И еще из письма от 20 февраля: «Мое положение выяснится лишь 25–28 числа. Напишу. Если будет спокойно — вернусь летом, но спокойно не будет, а наоборот. Это жаль, но может быть и к лучшему, но грозит быть затяжным. Пиши почаще, не забывай, если скоро уеду из Одессы…» Надо пояснить, что большинство из нас, служивших срочную службу, твердо знали, что не сегодня-завтра предстоит схватка с фашистской Германией, что это неизбежно: две системы-антипода с общей границей долго мирно сосуществовать не смогут. Война обязательно будет. А если так, то что лучше: встретить войну в своем родном полку с друзьями-товарищами или уволиться в запас, вернуться домой и потом уходить на войну под слезы родных и близких, а затем попасть в новую часть, где никого не знаешь? Все стояли за первый вариант: сперва война, а домой — потом.
При этом мы считали, что война будет скоротечной, например, через 2–3 месяца будем в Берлине, а там — кому как повезет: кто-то останется вечно молодым, а кто-то вернется домой. О затяжной войне никто тогда и не думал. Ведь мы как собирались воевать:
Мы войны не хотим,
Но себя защитим,
Оборону крепим мы недаром,
И на вражьей земле
Мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!
Так мы пели каждый день. И считали, трезво оценивая ситуацию, что вернуться домой могли только через войну.
Итак, я снова был в подразделении — в моей родной 1-й пулеметной роте. Оказалось, что львовских ребят и учебную роту куда-то перевели. Обстановку в роте характеризует письмо Нине от 22 февраля: «Вчера вечером перебрался назад в старую первую роту и притащил с собой целый взвод таких же „несознательных“, увиливающих от высокого звания советского командира. Моего взвода „старичков“ уже нет — они выпущены. Вчера в 11 вечера ушли в баню, и при обычной организации подобных процедур продержали нас там до 5-ти утра. В роте скучно, серо и однообразно, а атмосфера… удушающая. Чересчур много командиров-птенцов, они никак не могут насладиться удовольствием покомандовать и сутра до вечера попусту дерут свои глотки. А я в исключительных случаях повышаю свой голос, и все мои бойцы с радостью и бегом выполняют любые приказания, вплоть до мойки полов». Действительно так и было: в полный голос я отдавал команды только на строевых занятиях на плацу и на тактических занятиях в поле.
Из того же письма: «На днях два наших батальона вернулись с выхода. Поход был небольшой, но люди осеннего призыва 1940 года натерпелись здорово. Ходили за 50 километров от Одессы на старую границу и там рыли учебную линию укреплений, окопы — 7 км по фронту и 3 км в глубину. Жили под открытым небом 12 дней, питались так: утром 2 селедки на 5 человек и горсточка сухарей без воды, а вечером — чай из талого снега с теми же сухарями. Работали все время, оставляя на сон не больше 2–3-х часов в сутки. Работали по колено в воде под проливным дождем. Сушиться негде. Вернулись облепленные грязью, на лица было страшно смотреть — все малиновые, распухшие, с волдырями и нарывами. Привели их ночью, чтобы не видел город. Это их первая закалка…» Вот так готовили воевать наших доблестных солдат. Я воздержусь от оценки. Я прошел через все это, и мне нечего сказать.